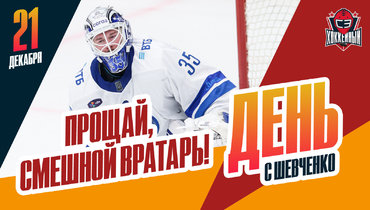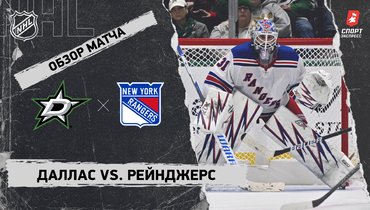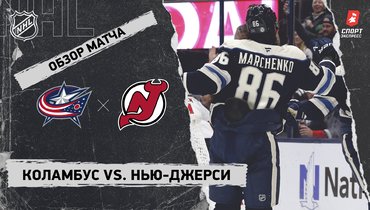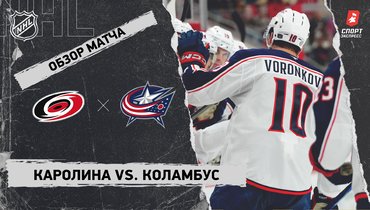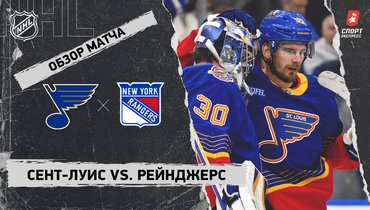«Было невозможно представить, что он плачет». Как умирал легендарный хоккейный тренер Цыгуров
Платочек розового цвета
Важнее всего послевкусие.
Едва ли у какого-то другого моего интервью послевкусие было таким. В 2015 году мы встретились в Челябинске с Геннадием Цыгуровым, боровшимся с раком.
Быть может, он и переборол бы все напасти. Но гибель сына Дениса лишила его сил — да и желания — бороться. Он заставлял себя бодриться. Но очень чувствовалось, что заставляет. Все это вымучено.
Это интервью могло быть тяжелым — но... Терпимым. Если б я не знал Цыгурова прежде.
Для меня разговор стал невыносимым. Геннадий Федорович доставал детский платочек розового цвета. Скомкав, прикладывал к глазам. Эти слезы я помню до сих пор.
Мне было ужасно тяжело смотреть и слушать. Хоть самому доставай платок.
Дурной справочник
Прежде я знал совсем другого Цыгурова. Настоящего тяжеловеса среди тренеров 90-х. Жесткого, непримиримого. Люди в ту пору работали стальные — какую команду ни возьми. Но и в том окружении Цыгуров выделялся.
Я мог представить любого Цыгурова. Зло кому-то выговаривающего. Похлопывающего по плечу отличившегося. Чуть оттаявшего к вечеру — когда в тоне его просыпались доверительные нотки. Особенно если заговорить о прошлом. Собственное прошлое Геннадий Федорович ох как уважал.
Я интуитивно нащупал этот ход — и при каждой встрече вворачивал что-то эдакое:
— Геннадий Федорович, а, Геннадий Федорович?
— А? — останавливался тот.
— Если справочник не врет, — произносил я задумчиво, даже растерянно, — сыграли вы в чемпионатах СССР 658 матчей.
— Так! — в глазах Цыгурова мелькало что-то, напоминающее интерес.
— Самый памятный? — торжествовал я. Все, заслуженный тренер на крючке. Так и оказывалось.
— Пойдем! — Цыгуров забывал про все дела.
Мы отыскивали стулья. В глазах Геннадия Федоровича уже играли языки пламени.
— Дурной ты справочник смотрел!
— Почему это «дурной»?
— Потому что в хорошем справочнике про самый памятный матч тоже должно быть.
От презрения ко мне и дурным справочникам Цыгуров переходил на «вы».
— Слышали про «бронзовый гол» Цыгурова?
— Что-то такое было, — притворялся я — и Цыгуров распалялся еще пуще: «Что-то»?!
— В 1977 году дома играли с Ригой! Проигрывали! Их еще Тихонов возглавлял. Выигрывает Рига — занимает третье место. Проиграет — наша бронза. В какой-то момент они вывели шайбу в среднюю зону, я за ней бегу — а на плечах у меня висит Хатулев.
— Ох. Он же огромный!
— В том-то и дело. Здоровенный защитник! Дотягиваюсь до шайбы, едва успеваю бросить издали в сторону ворот — и в этот момент он такой силовой прием мне выписывает, что я едва за борт не улетаю. Только поднялся, смотрю на единственную челябинскую трибуну — она ревет! А сам-то я момент не видел, потом рассказали: шайба перед Василенком, вратарем, прыгнула — и в ворота...
— Победный?!
— Не победный, — чуть смутился Цыгуров. — Я только сравнял. Но тут же Белоусов убегает один на один, его сносят. Чистейший буллит. До сих пор помню его глаза — всех растолкал, орет: «Сам забью!» Забил — и выиграли! Как такое забыть? У меня как игрока всего одна медаль — та, бронзовая. Самая дорогая в жизни.
Не прощаясь, Цыгуров вставал и уходил тяжелой походкой. Половицы скрипели под таким напором. Если не бетонные блоки.
Я мог представить что угодно — но только не слезы Цыгурова. Человек, выживший и даже бросивший после силового от Хатулева, плакать не способен. Я был уверен, что Цыгуров не плакал никогда.
Но вот теперь в Челябинске 2015-го глядел на этот смешной, застиранный платочек — и в разговоре повисала пауза. Я не знал, о чем спрашивать. Хотя передо мной лежал листочек с вопросами. Но заглядывать в него казалось странным, не к месту. Я щурился издалека. Но строчки разбегались.
— Давай, — подбадривал меня каким-то не своим голосом Цыгуров. — Давай дальше...
Я подтягивал листочек поближе и старался сосредоточиться.
«Немцы шли, стучали котелками»
Я знал Цыгурова, который даже в лютом хоккее 60-70-х носил прозвище «Бригадир». Который был тренером столь жестким, что пять раз подумаешь: подойти ли?
Впрочем, все зависело от настроения — Цыгуров в добром расположении способен был окутать теплом. Рассказывая про тот давний хоккей как никто другой. Цыгуров был интеллектуал — и образы подбирал яркие. Сравниться с ним в образности мог разве что Юрий Моисеев.
Цыгуров в скверном расположении духа смотрел исподлобья. Мог и вовсе взглянуть так, будто видит тебя впервые. Но уже ненавидит.
Я как-то завел разговор об отставке из Омска — и Геннадий Федорович обрубил: «Не простил. И не прощу никогда». Спокойная злость, без восклицательных знаков — вот это было его.
Я помнил того Бригадира, с которым надо было искать общий язык. У меня получалось, находил. Но каждый раз это было непросто.
Новые и новые интервью я начинал издалека. В тех глубинах я не получу отпор, на который уж настроился Цыгуров.
Я вспоминал будто случайно послевоенный Челябинск и фамилию «Зальцман». Молодежь и не знала про легендарного челябинского директора, обеспечившего танками советскую армию в Великую Отечественную. Но старики еще помнили.
Цыгуров, чуть усмехнувшись, смотрел на меня с интересом. Раз козыряю такими именами — пожалуй, заслуживаю разговора:
— Этого Зальцмана в конце концов разжаловали. Как в городе говорили, из-за женщин. Пока летел из Москвы в Челябинск, лишили всего. Году в 60-м играем в Ленинграде — вдруг вижу его. Совсем старенький, в валенках. Тренер нам представил: «Ребята, это создатель нашего «Трактора».
— Ого. Вот это подробность.
— Это он сразу после войны начал строить стадион. Деревянные трибуны, заборчик... Пленных немцев помню, те мостили дорогу. Шли, стучали котелками. Помню их губные гармошки. Как огонь высекали. Немцы много в Челябинске построили.
Стыд
Ранней весной 2015-го я дожидался Цыгурова у служебного входа во дворец «Трактора». Готовый встретить нездорового человека.
Но увидел Цыгурова, ставшего совсем, совсем другим. Я разглядывал издалека — как он, ссутулившийся, насидевшийся по больничным очередям, долго выбирался из-за руля своего японского автомобиля. В руках по-стариковски сжимал целлофановый пакет — с фотографиями для меня.
Сохранив видимость физической мощи, он едва двигался. Будто в замедленном кино. Яркий, болезненный румянец говорил о чем-то скверном. Человек, с которым, как ни с каким другим, монтировалось слово «кремень», утратил главную свою черту.
Во дворец нас не пускали. Я даже не уверен, что охрана узнала, кто пришел. Цыгуров мялся на месте, испытывая чудовищный стыд передо мной, молодым человеком из Москвы. Мне даже страшно представить, насколько ему было неловко. Надо ж — не пускают!
Прежний Цыгуров церемониться не стал бы. Мне страшно представить, что устроил бы.
Этот Геннадий Федорович, разбитый невзгодами, только что-то прошептал — и я едва разобрал:
— Подождем... Ладно...
Я отошел в сторонку, набрал номер тогдашнего директора «Трактора» Владимира Кречина. Произнес что-то шепотом. Чтоб не смутить Цыгурова совсем. Ждать-то можно до утра.
Кречин, культурный парень, все понимающий об истории своего клуба, бросил дела. Сам кинулся к лифту — чтоб провести Цыгурова, взяв под локоть. На ходу распоряжаясь насчет кофе.
Цыгурову было неловко — и шел по дворцу, словно гость. Как-то опасливо. В пресс-центре, стянув вязаную шапчонку, положил на край стола.
— Сегодня вспоминал... — не дожидаясь расспросов, начал разговор и вдруг расплакался.
Я замер.
Цыгуров словно удивлялся собственной сентиментальности:
— Извини. Сейчас я.
Вытерев глаза, продолжал:
— Я в 16 лет ушел на Челябинский тракторный. Успевая и в вечерней школе учиться, и на тренировки ходить. Вот вернулся с третьей смены, ночь не спал. Прихожу на тренировку — и что-то мне плохо стало. Тренер, Столяров, в крик: «Цыгуров!» — «Виктор Иванович, я только с завода». — «Что ж ты не сказал?»
— Вас уже тогда Бригадиром прозвали? — вспомнил я.
— Сначала так самого Столярова называли. Во время войны он на заводе трудился. Как-то работяги пришли на хоккей, видят его на льду: «О, и Витька-бригадир здесь!» Он здоровенный был, метр девяносто. Я тоже крупный — так ко мне прозвище и перешло.
«Это преступление!»
— Что это за книжку вы принесли? — переключился я на темы чуть нейтральнее. Чтоб Геннадий Федорович успокоился.
Он взял за корешок, смахнул рукавом снежинки, превратившиеся в капельки. На обложке я разглядел крупное — «Уверенность».
Даже подумал — это для меня. Оказалось, нет.
— Несу вот нашим новым тренерам. Может, прочитают. Талантливая книжка.
Цыгуров вдруг насупился, замолчал — и добавил едва слышно:
— А может, посмеются. Скажут — что ты нам носишь, старый олух...
Я закашлялся от этого определения — «старый олух». Решив деда развеселить, сообщил:
— Представляете, вчера задремал на хоккее. Впервые в жизни.
Цыгурову новость вовсе не показалась забавной.
— Это преступление! — поднял палец Геннадий Федорович.
«Мы что, совсем нищие?»
Весь Челябинск знал, как героически Цыгуров боролся с раком. Раза три умирал и воскресал со своей четвертой стадией.
Денег не хватало — и Цыгуров совершенно этого не стеснялся.
— Дома у меня как музей — хоккейные медали, значки... В Москве Борис, сын Чернышева, известный коллекционер. Ему Аркадий Иванович значки привозил со всего мира. А у меня штук 500-600, тоже собирал. Есть просто уникальные. Или две монеты по доллару с Уэйном Гретцки, в 80-х выпустили в Канаде. Вот я Денису и говорю: «Может, выставим все это на аукцион?» Стали считать — тысяч четыреста в рублях наберем. Ну, пятьсот. Не выход!
Тут подключился губернатор. Как только Третьяк узнал — тоже помог. «Авангард», в котором я работал. Кто-то отказал — но у меня никаких упреков! Была бы возможность — наверное, помогли бы. Нет — значит, нет...
— Слышал, от кого-то вы помощь принимать отказались.
— Денис предложил — в Тольятти во время матча поставить в холле какой-то ящик, чтоб болельщики в него деньги бросали. Вот тут я жестко сказал: «Ни в коем случае! Мы что, совсем нищие?» Знаю положение людей в Тольятти. Ни работы, ни денег. Один из самых бедных городов России.
Взрыв в Кыштыме
— Вы всегда были таким здоровым! Откуда взялась болезнь? — не удержался я.
— Челябинск вообще аномальная зона в смысле онкологии, — спокойно произнес Цыгуров. — Видели б вы, что в больницах делается. Я-то насмотрелся. В областной клинической больнице коридоры забиты! Нас же собирались к чернобыльцам приравнять. Но заглохло дело.
— Что вы говорите, — растерялся я. - Никогда бы не подумал.
— Да откуда вам в Москве знать, что здесь происходит?! — тяжело усмехнулся Геннадий Федорович. — В Челябинске около ЧТЗ танк стоит — видели, наверное. Этот район мы называли «Бродвей», все время там собирались. В 1957 году сидим — и вдруг со стороны Свердловска все небо красное! Мы радуемся: «О, северное сияние!» А это был взрыв в Кыштыме.
— Где-где?
— В Кыштыме. Сейчас этот городок называется Снежинск. Там производственное объединение «Маяк». Свердловск совсем рядом, но ветер все погнал в нашу сторону. В Кургане эвакуация была. В Свердловск танков нагнали, целые деревни бежали, все смешалось... Рыбу ловить нельзя было, грибы и ягоды собирать тоже. Неподалеку Карачаево озеро, сейчас его засыпают. Выяснилось, в него самые жуткие отходы в то время сбрасывали. Мы не только взрыв пережили, еще в зараженные места ездили в футбол и хоккей играть. Туда, где пропускной режим.
— Нетрадиционные методы пробовали?
— Где-то вычитал, что одному больному колокольный звон помог. На даче у меня есть диск с колоколами. Душ принимаю, зарядку делаю — ставлю его... Ха! Может, получится что-то?
— Вот вы смеетесь — а я знаком с мастером, который льет колокола. У него тысяча мистических историй на эту тему, — вспомнилось вдруг мне.
— Да? Тогда будем надеяться!
«Шукшин умер, Высоцкий умер. Один Никулин остался...»
Цыгуров замолкал — и вспомнив что-то своем, о чем я еще не спрашивал, тихо-тихо выговаривал:
— У нас с бабушкой пенсия, я чуть-чуть подрабатываю в «Тракторе». Потому что надо, надо! Что ж раскисать? Я вот... такое сочинил:
«Хватит ныть, хватит ныть, хватит ныть. Надо жить, надо жить, надо жить... Ради внуков и детей... Я для них... (прерывается, вытирает глаза) хоккей...»
— Вы правы — надо жить.
— Надо жить! Умер-то Денис — пятьсот метров от дома! Каждый день там бываю. Года еще не прошло, так тяжело...
Я не знал, получится ли у меня говорить с Цыгуровым про сына, которого похоронил месяцем раньше. Не знал, как начать.
Поговорить, конечно, стоило. Устав терзаться в предисловиях, спросил прямо:
— Геннадий Федорович, я хочу поговорить про Дениса. Вы готовы?
— Мне тяжело будет. Как смогу. Давайте.
— Парень был славный.
— Он очень хороший был... Вот говорят: «Категоричность — признак невоспитанности». Он немножко категоричный был в суждениях: или так, или — так. Но очень добрый, отходчивый. Что про него иногда говорят — мол, забулдыга какой-то... Мы 12 лет отработали вместе — он по три-четыре года вообще к спиртному не прикасался. Все же от обстоятельств!
Рассказывал он долго, как странно жилось Денису. Все складывалось, поиграл в НХЛ, — и раз за разом выворачивало куда-то не туда.
Рассказал Геннадий Федорович историю, которая беднягу Дениса доконала.
— Английский он знал хорошо — столько в Америке жил, играл. Найти бы одного гада, чеха. Я бы ему...
Цыгуров сжал здоровенный кулак так, что пальцы побелели. Мне показалось, даже зубы скрипнули.
— Что случилось? — поразился я.
— Агент! То про Катовице Денису твердил: «Устрою, устрою!» А перед самой смертью якобы в Америке работу сыну организовал. Я Денису звоню, он торопится: «Все, пап. Некогда, я в Америку уезжаю, тренером буду». С такой надеждой говорил, светился весь! «Рад за тебя», — отвечаю. Денис отправился было билет покупать, так чех отговорил: «Не надо, вышли мне деньги. Я все куплю». Сын отправил ему 850 то ли евро, то ли долларов. Все, тот пропал. Марсель его зовут, фамилию сейчас уточняю. Это стало для Дениса последним ударом.
— Просто развели сына?
— Видимо! Хотя с этим чехом долго контактировали. В Новый год мы с Денисом по скайпу разговаривали, поздравлял меня. Был вообще как стеклышко! Потом, видимо, сорвался. Когда такие проблемы, в семье ругань...
— Когда после праздников Денис исчез — вы понимали, что плохо дело?
— Я в Швейцарии был. Жена все понимала. Позвонила: «Денис пропал». Он никогда не был загульным. Вообще такого не случалось, чтоб домой не явился ночевать, у друзей каких-то остался. Домой он приходил всегда! Домашний был парень!
— Мама его, ваша супруга, была тогда в Челябинске?
— Нет, уехала в Тольятти на Новый год. А они, наоборот, оттуда в Челябинск. Говорила: «Пусть молодые проведут праздники вместе». По скайпу мы общались — все было нормально! Потом, видимо, поругались. Он вышел из дома — и все. Жена моя приехала 9 января с утра, Дениса уже не было. Фотографию прислали на опознание. Она как увидела — так все... Что говорить...
— Нашли рядом с домом?
— Совсем близко. Я постоянно туда хожу, в эту беседку.
— Он на сердце никогда не жаловался?
— Сердечко шалило, таблетки пил. Массивный был, грузный. Здесь, думаю, еще алкоголь помог, сердце не выдержало.
— Алкоголь с таблетками вместе — тяжелое сочетание.
— Может, еще из-за этого. Те дни — как в тумане. Эти проклятые праздники, вскрытие, мы с Димой решали — где хоронить? Жена моя говорит: «Только в Челябинске! Родила здесь, здесь и будет лежать!» Отвечаю: «Мы с тобой уйдем — кто к нему в Челябинске будет ходить?» Дети живут в Тольятти. Решили там хоронить, надо перевозить. Такая суета...
— Сейчас прокручиваете в памяти последние разговоры с ним?
— Работать он хотел, так хотел! Представилась бы возможность — всю бы душу отдал. Я успокаивал как мог: «Потерпи! Я вернусь, что-нибудь придумаем...» 4 марта курс заканчивался. Два месяца Денис не дотерпел. Вспоминаю, как взял его в 1980 году в лагерь. Денису 9 лет было. Есть у нас такой Малый Сунукуль, там все челябинские хоккеисты выросли. С 50-х годов считался одним из лучших лагерей для хоккея. Коробка, стрельбище для бросков, гимнастический городок под крышей, шикарное озеро... Белоусов с компанией рыбаки — после тяжелой тренировки идут туда. Порыбачат, искупаются — усталость как рукой снимало. Лежим с Денисом в домике между тренировками. По радио новость — умер Высоцкий. Сын так задумчиво произносит: «Надо же, все хорошие уходят...» — «Денис, почему?» — «Ну как? Шукшин умер, Высоцкий умер. Один Никулин остался...»
«Виктора Тихонова забросали камнями»
Говорили мы долго.
...Я проводил Геннадия Федоровича к тренерской «Трактора». Кто тогда тренировал команду — Сидоренко? Киви?
Вернулся Цыгуров быстро. Книжки с надписью «Уверенность» в руках не было. Да и настроения тоже. Видимо, общение оказалось формальным.
Интересно — где она сейчас, эта книжка? На чьей полке пылится?
Я проводил до машины, помог сесть за руль. Цыгуров похлопал меня по плечу так бережно, будто это я мотаюсь от одного доктора к другому. Всерьез уповая на чудотворный колокольный звон. Ничего не сказал — и поехал тихонечко, тихонечко...
Я знал, что видимся в последний раз. Хоть боролся после той нашей встречи с онкологией Геннадий Федорович долго. Года полтора. Бригадир есть Бригадир.
А сегодня, семь лет спустя после его кончины, я отыскиваю старые записи наших интервью. Слушаю как в первый раз истории — и оторваться не могу. Но это же я спрашивал! А он отвечал! Почему не помню?!
— 1981 год. Вы в центре огромного скандала — в Челябинске ЦСКА Виктора Тихонова забросали камнями, — узнаю свой голос на пленке. - Помните?
— Еще б не помнить...
— Хоккеисты ЦСКА до сих пор вздрагивают. Вспоминая, как прикрывались баулами.
— По «Маяку» трансляция была. Ничейный счет — и Зыбин забивает гол, находясь во вратарской площадке. Судил Кузнецов из Риги. Четко показал: «Нет!» Назначает вбрасывание в средней зоне. Что тут началось! Как Тихон начал его таскать! От судьи отвлечется — ко мне: «Гена, давай не будем будоражить, мы ж с тобой друзья...» — «Виктор Васильевич, при чем здесь я? Ребята очко заслужили, а вы нас обираете!»
— Времени оставалось мало?
— Минуты полторы. Тихонов снова к судье. Договорился до такого: «Если хочешь жить в Риге, то не засчитывай!» Мне ребята рассказывали, которые рядом были — у судьи слезы выступили. Засчитал!
— А вы?
— К Тихонову-то он подъезжал, а ко мне — нет. Уже советы слышу — там секретарь обкома сидит, беги к нему! Куда бежать?! Клюшкой стучу по борту: «Подъедь ко мне!» — а Кузнецов и не думает. Когда понял, что ничего уже не исправишь, швырнул эту клюшку на лед. Проиграли матч.
— А народ волнуется?
— Не просто волнуется — все же видят, несправедливость происходит! Люди думали, что ЦСКА ужинать отправится в ресторан «Малахит» на проспекте. У входа дожидались. А те сразу в автобус — и мимо, в аэропорт! Народ видит их «Икарус» — и давай камнями обстреливать.
— Вышли бы они у ресторана — пришлось бы еще хуже.
— Страшно представить. Вызвали на коллегию Спорткомитета к Сычу меня и Пашу Ромаровского, директора дворца. Мне эту брошенную клюшку в вину ставят. Мы видео в «Тракторе» еще не освоили, а у ЦСКА уже было. Что им выгодно — то они показали. Что невыгодно — вырезали. Как только нас не бранили. Сыч вообще резкий в суждениях: «Офицеры Советской армии, заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы, лежат на вонючем полу, прикрываясь сумками!» Даже Борис Михайлов стыдить начал: «Вы же педагог. Как могли бросить клюшку на лед?!» «Да я, — отвечаю, — ей стучал-стучал, она и вырвалась».
— Никто не заступился?
— Чернышев Аркадий Иванович: «Я не пойму! Цыгуров с Ромаровским виноваты, а Тихонов — ни при чем?» Тут Сыч опомнился: «Да-да, надо и Виктору Васильевичу указать!» Ему-то «указали», а нам — два выговора. Правда, в обкоме мне сказали — плюнь на этот выговор да забудь.
— Вы когда-то рассказывали — в Челябинске могли не только кирпичом бросить. Еще и мороженой крысой — в уехавшего из города Шувалова.
— Да не в него! Когда команда ВВС приезжала, на лед бросали мороженых крыс и лапти. Было такое.
— Как мило.
— А самого Шувалова предателем звали. Но это смешно было, пусть Виктор Григорьевич не обижается. Народ чего только не кричал. Одному мужичку, Гене, в кузнице руку оторвало. Тут в Челябинск немцы приехали играть. Так он культей размахивает: «Бей фашистов! Я руку на фронте потерял!»
Я помню, как мы мальчишками засматривались на сестру Шувалова. Она красавица была, на стадион приходила. Мы, пацаны, шепчемся: «Сестра, сестра...»