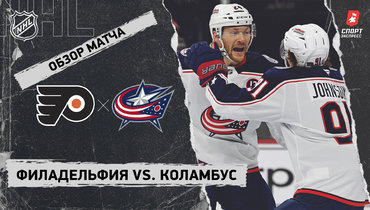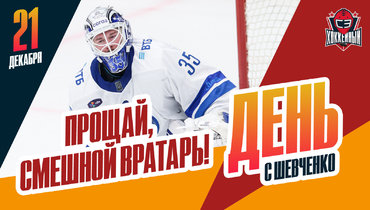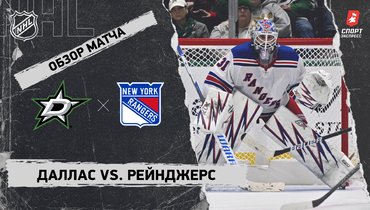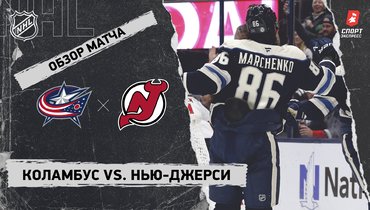«Это самый великий матч в истории мирового футбола. Со стадиона все уходили другими людьми»
Могила без оградки
Я заезжаю в Переделкино — и иду через кладбище знакомым маршрутом. Зная, где придержаться рукой за оградку. Чтоб не разъехались ноги на склизкой глине, не скатился кубарем туда, в низину — к могилкам Роберта Рождественского и прекрасного поэта Александра Ткаченко. К удивительному шахматисту Ефиму Геллеру. Имевшему положительный счет почти со всеми чемпионами мира своих лет — Фишером, Ботвинником, Смысловым, Петросяном...
В низине переделкинского погоста компания прекрасная — но предстать перед ними всеми стоит на твердых ногах. Уважаю безмерно.
Я шагаю мимо Тарковского-старшего, Арсения, и кенотафа Тарковского Андрея. Мимо поэта-фронтовика и человека отчаянной смелости Григория Поженяна, мимо Виктора Бокова, писавшего так мило про оренбургский пуховый платок. Мимо всех Чуковских и Бориса Пастернака. Замечаю, что на памятнике Корнею Ивановичу сбита часть бронзовых циферок. Проступают лишь темные контуры. Вот мародеры — ничего святого. Уж Чуковского бы пощадили. Ничего, на том свете дед Корней их встретит.
Размышляю на ходу, что вот однажды наберусь смелости и присяду у памятника Пастернаку точно так, как присел заехавший в Москву Тарантино. Тогда, в 2004-м, первым делом попросил отвезти его на могилу Бориса Леонидовича. Сел на травку, оперся спиной на памятник. Не поднимался долго-долго — а кто-то сфотографировал.
Сворачиваю на другую аллейку — и снова поражаюсь: вот она, всемирная слава. 7 лет прошло со дня смерти Евгения Евтушенко — а как стоял деревянный крест, так и стоит. Не появилось даже оградки.
Мне с секунду неловко. А потом задумываюсь — может, оно и хорошо? Вот так, на деревенском кладбище, под простым крестом. Чем лежать придавленным тонной гранита. Или бронзовыми конями с истошным взглядом.
«Никаких «но»!»
Я отыскиваю лавочку у кого-то из соседей Евгения Александровича — присаживаюсь и вспоминаю, вспоминаю наши короткие, странные встречи.
Все они будто вчера случились — и вот сейчас мне трудно осознать если не кончину Евтушенко, то семь прошедших лет.
Я помню расшитые бесовскими узорами рубахи, голубоватую кепочку. Морщины на знакомом всем лице, циклопических размеров перстень. В какой шкатулке он нынче лежит? Кто вертит его в руках?
Вот перстень-талисман Пушкина сменил массу хозяев — побывав у Жуковского и Тургенева. Сгинул бесследно в революционной пучине. Надеюсь, перстень Евтушенко судьбу имеет более ясную.
Вспоминаю, как Евгений Александрович, не вполне здоровый, но еще активный, приехал на лето в Москву. Презентовать какую-то книжку о футболе.
Чем ближе кончина — тем чаще вспоминаешь детство. А детство Евтушенко переплелось с футболом накрепко.
Мы с Сашей Кружковым дозвонились ему в переделкинскую избу — и через два слова получили приглашение на день рождения. Ответить-то не успели, онемели — чтоб натолкнуться на чуть наигранное недоумение:
— Неужели вы не придете?!
— Конечно же, придем... — выдавили. — Но...
— Что «но»? — рассердился поэт. — Приходите обязательно! Никаких «но»! 18 июля, Политехнический, 19-00. Как обычно.
— Так мы хотели на большое интервью к вам напроситься. А на дне рождения к вам не пробиться. Там желающих будет много.
— Не пробиться, — подтвердил Евтушенко чуть печальнее. — Вы про книжку мою напишете?
— Да! — выкрикнули мы одновременно.
— Поступаем так, — деловое начало в легенде вполне уживалось с прочими божьими дарами. — Сейчас, прямо сейчас мы с вами говорим про мою книжку. Потом встречаемся и делаем что-то побольше. А фотография будет?
— Будет, — мы готовы были подписаться на все в этом лукавом торге. — Еще как будет.
— А в Политехнический ко мне фотограф приедет?
— Уж наверняка.
— Это хорошо! — обрадовался Евтушенко. — Пусть не меня снимает — а людей, которые придут на встречу. Только людей!
Такой ершистый в юности, к преклонным годам Евгений Александрович стал удивительно трогательный, забавным человеком. Гений, что говорить.
«Маркер»
Говорили при каждой встрече мы очень мило. Евтушенко зазывал нас с Кружковым на презентацию той самой книжки о футболе в магазин «Москва» — уже там в сотый раз поражая надрывом в исполнении. Ну и расшитой какими-то огненными петухами рубахой.
Случайные люди — хотя есть ли сегодня в книжных магазинах «случайные»? — застывали, оцепенев от такого представления. Молоденькие девчонки слушали и про матч с немцами 54-го года, и про Всеволода Боброва. Поэт воодушевлялся — и читал еще взволнованнее. Взмахивал тонкой рукой.
Возле поэта копошилась свита — такая же яркоокрашенная, как сам Евтушенко. Выделялся гражданин в облаке всколоченной бороды, с какими-то клыками. Вот точно такой же мелькал в советской версии «Шерлока Холмса». Это про него спрашивал Холмс у брата Майкрофта: «Маркер?»
При Евтушенко был личный «маркер». Ординарец участливый, предупредительный, оберегавший. Такая стрижка и тяга к поэзии не очень-то рифмовались в моем сознании, ну да ладно.
— Поговорить здесь нам не дадут, — добродушно вымолвил Евгений Александрович, подписывая размашисто тысячную книжку.
Несвежая голова «маркера» протиснулась у меня под локтем. Контролируя происходящее. Стало ясно — поговорить действительно не дадут. Если не благодарные читатели, так сопровождающие.
— Пойдем! — махнул Евтушенко.
Увлек нас в директорский кабинет, где стол ломился от закусок.
— Полчаса нам хватит?
Мы пожали плечами. Едва ли.
Евтушенко коротко кивнул: хватит.
Все вокруг пытались оттащить Евгения Александровича от нас — но тот держался словно дом Павлова. Раз уж пообещал.
— Ну дайте же, дайте поговорить с ребятами... — укорял их всех Евтушенко не своим голосом, а словно взятым напрокат.
Яства нам в подмогу — свита сосредоточилась на чем-то заливном. На полчаса оставив нас в покое. Их голоса становились все смелее, отчетливее — Евтушенко же толковал все тише, проникновеннее.
К слову, за вечер в книжном магазине Евтушенко наподписывал гору книжек — и всем присутствующим, и про запас.
Я заглядывал в «Москву» время спустя — та горка лежала почти нетронутая. Все-таки не 60-е.
Но стоило Евтушенко умереть — конечно же, моментально все расхватали.
Ширвиндт и «тараканы»
...Вот теперь я сижу на лавочке переделкинского погоста, вспоминаю театральность его интонаций. Его добродушные, почти ласковые ответы. Все переплетается в моей памяти самым причудливым образом.
— В Сантьяго вы сами чуть не погибли. Кто-то обстрелял ваш автомобиль, — демонстрировали мы с Кружковым начитанность.
— Да, всякое бывало. Я много раз попадал в рискованные ситуации.
Пожалуй, стремительно пустеющие тарелки были как раз «рискованной» ситуацией — и, оценив цепким взглядом происходящее вокруг, Евтушенко подцепил вилкой кусок колбасы. Пока не растащили.
— Вы даже не представляете, насколько часто! — вспомнилось вдруг Евгению Александровичу что-то глубоко запрятанное в памяти — и с решимостью отодвинул тарелку. — Начиная с детства — и нескольких бомбежек во время эвакуации. Во время путешествий тоже были эпизоды.
— За какое чудесное спасение особенно благодарны ангелу-хранителю? — кинулись мы на подмогу.
Никакая подмога ему нужна не была — и вот теперь от наших идиотских вкраплений мысль поэта понеслась в другом направлении, прекраснодушном.
— Я особенно благодарен ангелу-хранителю за то, что помогал встречать хороших людей. Которые не позволяли мне терять веру в жизнь. Я не люблю показуху — и особенно в молитвах. Но знаю, что за мое здравие молятся люди, которые находятся далеко, — и это большая сила. А моя поэзия — тоже молитва. Это древнее русское выражение по поводу стихов: «К любому удару молитва». Стихи — это молитва за человека!
— Вы полагаете?
— Правда, поэзия не имеет права внушать заблуждение — будто жизнь легка. Она не имеет права учить самонадеянному оптимизму. Но должна помогать человеку не терять веру в жизнь. Мой любимый афоризм — слова Камю: «Любая стена — это дверь». Замечательные слова. Никогда нельзя терять веру, безвыходных ситуаций не бывает...
Мне вспомнился вдруг рассказ Александра Ширвиндта — и я постарался усмехнуться про себя, не вслух.
Мы сидели в его директорском кабинете Театра сатиры. Александр Анатольевич рассказал про высотку на Котельнической — и я, хоть слышал прежде ту историю, поразился способности артиста преподносить древние байки как свежайшие. Вот что значит талант исполнителя — даже воспринимались эти новеллы как новые, тебе одному рассказанные!
Ширвиндт вспомнил как раз Евтушенко, своего соседа по дому.
— О футболе разговаривали? — спросил я зачем-то.
— Мало. С Женькой у нас своя история. В нашей высотке до сих пор есть подземный гараж. В советские времена въехать туда было практически нереально, мы с Евтушенко долго стояли в очереди. Когда умер архитектор Чечулин, эту высотку и проектировавший, одно место в гараже освободилось. Внепланово. Мне шепнули, что комиссия выбирает между мной и Евтушенко. Я понимал, что шансов никаких. Евтушенко — популярнейший поэт, глыба. Но тут он опубликовал стихотворение «Тараканы в высотном доме».
— Про Котельническую?
— Нет, писал-то он про страну! Аллегорически!
— Но гаражная комиссия истолковала иначе?
— Так как тараканов в доме действительно было несметно, гаражная комиссия расстроилась. В гараж въехал я. Ну и о каком футболе нам после этого говорить?
Восемь стихов
Евтушенко формулировал так ярко и емко в стихах — что даже проза в его исполнении становилась отточенной. Еще чуть-чуть — и обратится в стих.
До сих пор вспомнится что-то: ну кто другой так выразится? Да никто!
Например, про переделкинского соседа, грандиозного поэта Андрея Вознесенского:
— У него восемь первоклассных стихов.
«Всего восемь?!» — поразился я услышанному.
А Евтушенко, додержав паузу, новую фразу уронил, словно камень в воду, — и ни убавить, ни прибавить:
— Восемь — это очень много.
В этом Переделкино — особый мир. Шуршание Минского шоссе откуда-то издалека вплетается в звуки леса, в покой деревянных дач. Доживающих свой век устало, равнодушно.
Всякая улица помнит лучших писателей страны — от которых остались лишь тени. Уж нет почти людей, видевших их живыми. Только сосны. Прелые, косые заборы.
На все Переделкино два старика могут провести этими улицами — замедляя шаг у калиток:
— Вот на этой дачке написал «Жди меня» в 41-м Константин Симонов. Вот здесь жил Евгений Петров. Вот этой улицей ходил еще крепкий старик Серафимович — сейчас улочка его имя и носит. Здесь жил Лев Кассиль — и скончался, перенервничав во время трансляции финала чемпионата мира-1970. Умер прямо в перерыве, так и не узнав, что Бразилия обыграет Италию 4:1. После первого тайма счет был ничейный. А вот за этим окошком застрелился Фадеев. Про ландыши на этом участке писала Ахматова. А вот здесь в голодное послевоенное время засадил участок картошкой Борис Пастернак.
Евтушенко в этих местах чувствовал себя прекрасно — и приезжать из Америки старался каждое лето. Тянуло! Быть может, только здесь чувствовал себя молодым — а не в городе Талса штата Оклахома...
«Стеклянный господин»
Я как-то окажусь на даче Булата Окуджавы. Конечно, спустя годы после кончины Булата.
На летний концерт Никитиных под открытым небом сходились оставшиеся в этом поселке классики. Кого-то привозили — как Фазиля Искандера. Кто-то приходил сам — как Евгений Рейн. Сидел в задумчивости, позабыв обо всем на свете. Никто Рейна особо не узнавал, не тревожил его, ближайшего друга Довлатова и Бродского. Вдруг, очнувшись, Евгений Борисович досадливо встряхнул рукой — это сигарета, дотлев, обожгла пальцы...
Подъехал на серебристом «Форде» Евгений Евтушенко — и я удивился: к чему ехать-то? Живет на соседней улице — если не на той же!
Попытался въехать на какую-то площадочку — не вышло. Вторая попытка — та же история. Колесо почти виснет над оврагом.
Я наблюдал со стороны, понимая — поэту лучше в столицу за рулем не частить. С такими способностями к вождению — если только по поселку, до магазинчика. Директором которого, кстати, был когда-то отец футболиста Валерия Воронина.
— Евгений Александрович, позвольте? — подошел я.
Евтушенко едва ли держал в голове мимолетность наших прежних встреч, все эти короткие интервью. Сколько у него таких было — да каждый московский день! Может, лицо что-то напомнило. Покорно уступил место за рулем. Я кое-как пристроил «Форд» вплотную к забору.
В тот чудесный вечер Евтушенко сидел в первом ряду — и, конечно же, был замечен, обласкан Никитиными.
Желая угодить классику, Сергей Яковлевич отошел от сценария:
— Здесь вот с нами Евгений Александрович. Сейчас споем на его стихи... «Стеклянного господина»?
Он не утверждал. Скорее, спрашивал. Немного сомневаясь.
— Это такая сложная песня, — вздохнула жена Татьяна, забыв, что микрофон рядом. — Но давай...
Евтушенко улыбался совершенно счастливо.
Свой домик в Переделкино еще при жизни Евгений Александрович отдал под музей. Как и все собрание картин, свезенных со всего мира диковин. Наверное, это что-то говорит о широте души.
Я однажды заехал в этот дом на улице Гоголя уже после его кончины — был поражен. Пожалел, что не напросился в это имение при жизни Евтушенко — а явился вот так, с запозданием, по билетику.
Водил бы по дому лично Евтушенко — наверняка показал бы еще и второй этаж. Куда нынче посторонних не пускают. Но и первого хватает для огромного впечатления.
«Играй, Аршавин»
Футбол Евтушенко любил совсем по-мальчишески. Выведывал у нас с Кружковым подробности жизни Аршавина — транжиря драгоценные минуты того вечера в «Москве» не на ответы, а на вопросы.
Впрочем, от Аршавина тогда млела вся Европа. Мы влекли поэта куда-то в сторону — а его из любой темы словно магнитом вытягивало в день сегодняшний. Где царил футболист Аршавин.
— Вдова Всеволода Боброва рассказывала случай — утро, звонок в дверь. На пороге вы в огромной лисьей шапке. Привезли для их маленького сына, Миши, из Англии джинсовый костюмчик.
— Наверняка я это сделал. Хоть и не помню. А почему, собственно, должен помнить? Я настолько обожал Всеволода Михалыча! Сегодня рассказывал людям историю о нем. В книжке тоже ее описал — как мы отправились летом в деревню, и Бобров краснел от комплиментов в свой адрес. Это вам не Аршавин.
— А что Аршавин? — вздохнули мы.
— Недавно сочинил о нем такие строчки:
«А я еще люблю Аршавина,
но за игру — не интервью.
Играй, родимый, земношаренно,
но не забудь страну свою».
Он мне импонирует как футболист. Талантливый. Но я надеюсь, некоторые моменты в характере Аршавин изживет. И скажет жене, что нельзя приезжать в чужую страну и сразу начинать бранить ее кухню. Да откуда ей знать, как готовят в Англии?
— Вы-то наверняка в курсе.
— Еще бы! Англичане великолепно готовят. Между прочим, в этой стране лучше всего делают домашнее варенье.
— В Англии?!
— Да! Представьте себе! А супруге Аршавина что-то не понравилось. Недопустимо говорить такие вещи.
— Ваша жена-англичанка хорошо стряпала? — снова ныряли мы в изгибы биографии. Чтоб через секунду нас Евгений Александрович снова окунул в день сегодняшний.
— Ну... Неплохо. Пускай подгорит что-то. Но если готовилось с душой — это все равно замечательно. Важно, что готовит любимая женщина. Я любил всех своих жен.
— Всех четверых?
— Да. Иначе бы на них не женился... А еще меня огорчили слова Аршавина насчет зарплаты. Получает такие деньги — и жалуется на налоги. Но это бестактно по отношению к собственному народу. Да и по отношению к англичанам. Те-то исправно платят налоги и не стонут. Видите, какая разница между Андреем и Всеволодом Михалычем? Аршавину, предположу, даже в голову не пришло, что он поступил неделикатно. А внутренняя деликатность — она выше этикета. Надо понимать, чем можешь задеть других людей.
«Репортаж из прошлого века»
Мы верили и не верили, что говорим с тем самым Евтушенко вот так запросто. С человеком, от которого сходила с ума огромная страна в 60-х. Внимала всякому его слову в том же Политехническом. Кадры кинохроники не обманут. Пересмотрите изумительную «Заставу Ильича».
В новом веке от той славы остались лишь воспоминания. Сладкий дым.
Евтушенко вскоре глядел на нас как на друзей. Ребят не из «физкультурной газеты», как выражается писатель Нилин, а истинных ценителей. Поэзии и вообще всего.
Делился обидами последних дней:
— Стихи для последней книжки я послал в наше Министерство спорта. Мне казалось, эту книгу должны были поддержать, даже распространять по школам. Там же стихи о Боброве, Хомиче, Стрельцове и Игоре Нетто. Они должны были обнять меня! Напечатать эту книгу!
— Не обняли?
— Наткнулся на совершенное равнодушие. Люди абсолютно глухие к поэзии. Забыли, какая это сила. Я был просто поражен их слепоте. Даже не соизволили ответить, книга у них валялась — а они меня избегали. Увиливали от ответа.
Мы вздыхали самым горьким из вздохов. В утешение сами бы обняли Евгения Александровича вместо Министерства спорта. Только б он этим удовлетворился!
Евтушенко горестно подпер подбородок кулаком. Глядел сквозь нас, дивясь министерской слепоте.
Но вдруг вспомнил что-то совсем сокровенное — и заговорил полушепотом:
— Совсем недавно я написал, кажется, одно из лучших своих стихотворений...
— Какое? — таким же шепотом отзывались мы. Готовые услышать про континенты, про любовь. Про Бабий Яр или Сантьяго. Да хоть про Фиделя. Ведь когда-то ради встречи с Кастро выучил за семь дней испанский язык.
Но нет!
— Всю жизнь носил глубоко внутри воспоминания о матче СССР — ФРГ 55-го года, — произносил Евтушенко, ошеломляя нас. — За год до этого Германия стала чемпионом мира. За нее играл потрясающий Фриц Вальтер, побывавший военнопленным. Прошло десять лет после войны — но физические и нравственные раны зажили не все. В Москве было очень много инвалидов. Сами мастерили деревянные платформы на подшипниках, катались на них. Их куда-то ссылали, чтоб не портили пейзаж — этим людям приходилось прятаться. Но когда приехали немцы, люди-обрубки словно вышли из-под земли!
— Возле стадиона «Динамо»?
— Да! Билетов было не достать — я, например, двое суток стоял у касс. Видел, как со всех сторон к стадиону катились инвалиды на своих грохочущих подшипниковых тарантасах. Билетов не было — так люди их поднимали на руки и переносили через турникеты. Их ставили на гаревые дорожки, они окаймляли все поле. Каждый раз, когда мяч выбивали в аут, футболисты могли их видеть. И это действовало страшным, магическим образом.
— Потрясающе.
— Они все время смотрели в лицо этим очеловеченным последствиям войны. Матч был очень интересный в смысле борьбы — но проходил в идеальной атмосфере товарищества и вежливости. Когда на 17-й минуте Коля Паршин забил первый мяч и упал, Фриц Вальтер сам поднял его. Пожал руку, взял мяч — и они вместе, в обнимку, пошли к центру поля. Сейчас невозможно представить!
— Это точно.
— А многие из инвалидов приходили многие с фанерками, на которых было написано «Бейте фрицев». Так они стали их срывать. Когда матч закончился, вся гаревая дорожка была усыпана этими картонками. Мы увидели чудо человеческого взаимопонимания — после стольких страданий и крови! Все были потрясены!
— Ни один матч не производил на вас такого впечатления?
— Самый лучший футбольный обозреватель Лев Филатов был моим близким другом. Фронтовик, солдат. От него услышал: «Это самый великий в истории мирового футбола матч. Высокий со всех точек зрения...» В нем философия существования человечества — если люди будут жить мстительностью, то они вместе и погибнут. В тот вечер со стадиона все уходили другими людьми. Я хотел об этом матче поставить фильм. Потом решил написать в прозе.
— А получилось — стихами?
— Поэзия выстроена на сгущенных метафорах — и была единственным жанром, в котором можно было писать об увиденном. Стихотворение называлось «Репортаж из прошлого века».
Вот кусочек:
И вдруг самый смелый из инвалидов
вздохнул,
восхищение горькое выдав:
«Я, братцы, скажу вам по праву танкиста —
ведь здорово немцы играют,
и чисто...»
и хлопнул разок,
всех других огорошив,
в свои обожженные в танке ладоши,
и кореш в тельняшке подхлопывать стал,
качая поскрипывающий пьедестал.