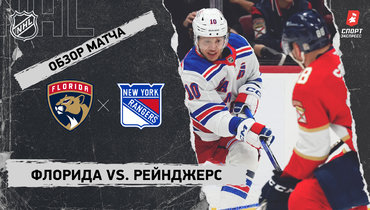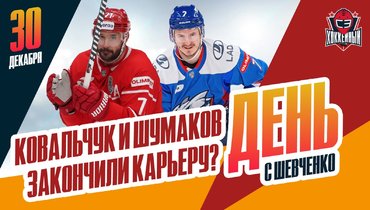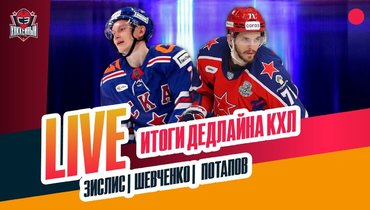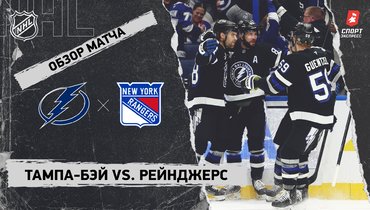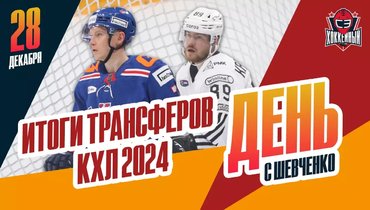«Сегодня чувствовал себя на 77. А вчера казалось — мне лет 400». Голышак вспоминает Александра Ширвиндта
Мне казалось, Ширвиндт будет всегда — хотя изменившийся голос, истонченность руки говорили о количестве прожитых лет. Но взгляд, взгляд Ширвиндта оставался прежним!
Я старался радоваться любым новостям, касающимся Александра Анатольевича. Даже самым спорным. Узнавал в новостях, как в переулках крошечного Валдая, где за день проедет две машины, Ширвиндт ухитрился попасть в ДТП. Задев своим огромным автомобилем какой-то поменьше. На счастье, скорость была невелика. Все это было бы крайне печально — но я говорил себе: ага, Александр Анатольевич за рулем. Значит, бодр — и это здорово!
Я смотрел, как сын Михаил подводил его к видеокамере в имении, записывал какие-то зарисовочки. Прикрывая папу пледом, обнимая за плечи.
Александр Анатольевич едва держался на ногах, но мне хотелось думать — держится! Значит, много лет впереди!
***
Теперь остались воспоминания — как Ширвиндт приезжал к нам в старую редакцию на Тишинке. А может, приходил пешком. Идти-то — два квартала.
Пожимал руку каждому из корреспондентов. С особым значением — самым юным, цепеневшим от важности момента.
Как привечал нас с Сашей Кружковым в своем кабинете Театра сатиры. Смотрел поверх очков в глаза внимательно-внимательно. При этом — иронично. Это ж Ширвиндт.
Я замечал изящную модельку автомобиля «Победа» на его столе и портрет Ольги Аросевой. Ну и граммофон в углу.
Я аккуратно пожимал его руку — и думал: вот на этих руках за кулисами рижского театра умирал Андрей Миронов. Сколько лет прошло, а Александр Анатольевич жив-здоров. За окном так же шумит Садовое. Ширвиндт даже участвует в каких-то спектаклях. Если верить афишным столбам у «Маяковской».
Мы расспрашивали про футбол — и казалось, теряем время. Потому что хотелось обо всем на свете. О театре. О Миронове и Державине. Об Аросевой, наконец. О «Торпедо» нам расскажет кто угодно — а тут такой шанс прикоснуться к большому, настоящему!
Мы плавно съезжали на театральные темы. Ширвиндт усмехался — и рассказал что-то, чего точно не было в его книжках. Будто сберег специально для нас.
Набравшись наглости, попросили проводить нас в гримерку Андрея Миронова. Не сомневаясь, что она пустует с 87-го. Превратившись в музей.
— Табличка там есть, а музея нет. Места в театре не хватает. Сейчас она занята, артисты готовятся к спектаклю. Так что в другой раз...
Мы не сомневались, что «другой раз» будет. Раз уж Ширвиндт так к нам расположен.
***
Говорил Ширвиндт устало — но ласково. Знали мы и о других историях. Не слишком угодившие репортеры получали ответы лаконичные. С оттенком вызова.
Кто-то чеканил для Александра Анатольевича, сверяясь с листами: «Место, в которое я все время собираюсь, но никак не доеду?»
— Кладбище, — снисходительно отвечал Александр Анатольевич.
На вопрос следующий: «Мое отношение к Москве за те годы, что я здесь живу?» следовал сдержанный ответ:
— Очень хорошее.
Мы отложили свои листочки с вопросами — чтоб не получать вот такие, полные достоинства, ответы. Перешли к импровизации.
Наш фотокорреспондент присел на колени, щелкнул раз, другой, третий. С тяжелым выдохом поднялся, задев плечом граммофон. Тот покачнулся — но не упал.
Ширвиндт обдал ледяным взглядом — как настоящий джентльмен. Не проронил ни слова.
— О! — кинулись мы справлять ситуацию. — Самая крутая пластинка, которая побывала в ваших руках?
— Ну, спросили... Хотя была! Разбирал на даче закрома старых пластинок. Еще со времен бабушек и родителей. Нашел кожаный альбом. Думаю — это что ж за сокровище? Протер — золотом проступает надпись: «Доклад товарища Сталина на таком-то съезде...» Пластинок 20!
— С ума сойти.
— Сам доклад — 18 пластинок. Последние две — аплодисменты. Я не шучу. Не дай бог не дописать! Сколько шли, столько и намотали.
— Прослушали?
— Доклад-то? Конечно. Аплодисменты — мельком.
— Кстати! Самая невероятная овация в вашей жизни?
— Да всегда хорошо принимают. Но двух пластинок не было точно!
Одна тема цеплялась за другую — и листы с вопросами о «Торпедо» можно было комкать.
— К разговору о подарках! — воскликнул то ли я, то ли Кружков. — От Андрея Миронова в вашем доме что-то сохранилось?
— Вы знаете чудесную историю про батарею?
— Что-то вспоминается. Но нетвердо.
— Марк Захаров, Гриша Горин и Андрей шли ко мне на день рождения — а во дворе подхватили ржавую батарею. Доперли эту тяжесть до третьего этажа.
— Еще и речь наверняка заготовили.
— Горин увязал как-то батарею с теплом сердец. «Несите теперь обратно», — говорю. Понесли! Я наблюдаю. А потом что уж им в голову пришло — не знаю, но решили довести ситуацию до полного абсурда.
— Притащили обратно?
— Да. Тут уж я принял. Куда деваться. Может, и стоило ее сохранить. Для музея.
— Вот это выдумка.
— Захаров с Мироновым могли проводить меня на вокзал, посадить на поезд в Харьков. Потом помчаться во Внуково — и прибыть в Харьков раньше меня. Спрятаться где-то и «пугануть», как Марк выражался. Чтобы я подумал — допился, видения...
***
Про самочувствие вопросы не напрашивались. Но мы все-таки спросили. Зайдя совсем издалека:
— Когда-то вы про себя говорили: «Я мягкий, добрый, вялый». С возрастом что-то добавилось?
— К 85 годам я стал еще более мягким, еще более добрым и... Совсем вялым.
— Другая ваша цитата: «Иногда мне 100 лет по ощущениям, иногда — 20». Последний случай, когда чувствовали себя на 20?
— Хм... Вот сегодня — примерно на 77. Бывает, и на 120. А вчера вечером казалось, что мне уже лет 400.
— О господи. Что стряслось? Давление?
— Не знаю. Совершенно дохлый был. К утру отпустило. Ну а сейчас у меня спектакль — значит, через полтора часа буду вынужден быть молодым.
— Спектакль? — оцепенели мы. — Сегодня?!
— Ну да, — равнодушно бросил Ширвиндт. Скользнул взглядом по часам — и охнул:
— Всё, всё, всё! Пора! Спектакль скоро! А то случится сумасшедшая путаница. Как в крематории.
— Это как? — обрадовались мы такой образности мышления. Даже не думая вставать.
— Сотрудник крематория чихнул на рабочем месте и теперь не знает, где кто. Недавно рассказал этот анекдот в торпедовской ложе. Имел большой успех. Всё! Закончили!
Все-таки что-то о «Торпедо» в нашем разговоре случилось. И слава богу.
Ширвиндт приподнялся, провожая нас до дверей.
Уходить не хотелось — и мы канючили на ходу:
— А вот в «Торпедо»...
— Звоните, братцы! — на сей раз не знал жалости Александр Анатольевич. В бархате голоса мелькнула стальная нота.
Это «звоните, братцы» до сих пор в ушах. Ни я, ни Кружков приглашением не злоупотребляли. Наверное, зря. Позвонили, быть может, раз. Или два.
А сегодня думаю — как же вас будет не хватать, Александр Анатольевич. Какой же вы были чудесный, какой уютный. Самый остроумный человек Москвы.
Мне очень больно узнавать, что дальше — без вас...